алексей татаринов
« Я стал филологом и всегда понимал,
что у меня нет шансов быть никем иным»
что у меня нет шансов быть никем иным»
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой зарубежной
литературы КубГУ
заведующий кафедрой зарубежной
литературы КубГУ
Если, увидев этот материал, ваши знакомые или близкие начинают восторженно повизгивать, будьте уверены: они учились (учатся) на филфаке, журфаке или РГФ в КубГУ и сейчас узрели одного из самых колоритных и любимых своих преподавателей.
Итак, встречайте Алексея Викторовича Татаринова. Сегодня говорим о том, какая нелёгкая заносит мужчину на самый женский факультет университета.
Итак, встречайте Алексея Викторовича Татаринова. Сегодня говорим о том, какая нелёгкая заносит мужчину на самый женский факультет университета.
Автор: Елена Болдырева Фото: Ольга Вирич
— Алексей Викторович, расскажите, как получается так, что мужчина оказывается на филфаке (филологическом факультете. ― Прим. ред.), остаётся там преподавать и возглавляет кафедру зарубежной литературы?
— У меня банальный ответ: я родовой филолог. Мой дед Николай Иванович Самохвалов в 1951-м приехал в Краснодар и организовал кафедру зарубежной литературы КубГУ. Его дочь Людмила Николаевна окончила МГУ и тоже стала здесь преподавать. Когда я оказался в последнем классе школы, испытал животный страх перед будущим и спросил себя, что умею, то понял, что не умею ничего, кроме как читать книжки, писать о них и говорить о них. Во мне сидит генетическое умение быть словесником ― я называю это «быть мастером словесности», и неважно, чем занимается человек: литературоведением, журналистикой или чем-то ещё, связанным со словом.
Я стал филологом и всегда понимал, что у меня нет шансов быть никем иным. Даже в 1990-е, когда преподавателям платили примерно столько, сколько хватало на две шоколадки. Помню, в те годы встретил своего одноклассника, сейчас довольно известного журналиста, и он спросил меня (тут немного перефразирую): «А зачем тебе это надо?» Я ответил: «Это то, что я хочу делать».
— У меня банальный ответ: я родовой филолог. Мой дед Николай Иванович Самохвалов в 1951-м приехал в Краснодар и организовал кафедру зарубежной литературы КубГУ. Его дочь Людмила Николаевна окончила МГУ и тоже стала здесь преподавать. Когда я оказался в последнем классе школы, испытал животный страх перед будущим и спросил себя, что умею, то понял, что не умею ничего, кроме как читать книжки, писать о них и говорить о них. Во мне сидит генетическое умение быть словесником ― я называю это «быть мастером словесности», и неважно, чем занимается человек: литературоведением, журналистикой или чем-то ещё, связанным со словом.
Я стал филологом и всегда понимал, что у меня нет шансов быть никем иным. Даже в 1990-е, когда преподавателям платили примерно столько, сколько хватало на две шоколадки. Помню, в те годы встретил своего одноклассника, сейчас довольно известного журналиста, и он спросил меня (тут немного перефразирую): «А зачем тебе это надо?» Я ответил: «Это то, что я хочу делать».
Я провёл два года в мотопехоте и в танке и вернулся в науку, скажем так, с лёгким налётом брутальности. Этот армейский опыт очень важен. Сейчас ребята его не имеют, и многие филфаковские пацаны, к сожалению, так и остаются недопацанами.


— Филфак ― традиционно женская территория. Как вы ощущаете себя здесь?
— Знаешь, в моем становлении и как мужчины, и как филолога огромную роль сыграла армия. Я провёл два года в мотопехоте и в танке и вернулся в науку, скажем так, с лёгким налётом брутальности. Забирали меня полуангельским одуванчиком ― я тогда весил 58 кг, а танковый снаряд ― 42 кг. И сразу в танк, экипаж ― четыре человека: командир-туркмен, наводчик-азербайджанец, механик-водитель ― казах. И я, интеллигентный студентик. Сама понимаешь, меня это быстро закалило.
Из смешного, помню, попал в госпиталь ― нет, не били, по другой причине. И вот иду я на укол (с книжкой, конечно), во мне ни мышц, ни килограммов, только крылышки болтаются. А мне навстречу медсестра Галя ― шустрая, бойкая, лет на пять старше, с офицерами и солдатами работает… И она меня спасла вопросом: «Алёша, а что ж ты будешь с таким весом с женщинами делать?!» Вот тогда я понял, что надо и вес набрать, и книжки отложить.
Этот армейский опыт очень важен. Сейчас ребята его не имеют, и многие филфаковские пацаны, к сожалению, так и остаются недопацанами. А нас взяли, посадили в какие-то немыслимые условия ― трудно, жёстко, как раз в это время советская армия разлагалась… Но только так ты и взрослеешь и даже к своему призванию начинаешь относиться по-другому. Кстати, Леонида Андреева ― писателя, которому я посвятил всю первую половину своей литературоведческой жизни, ― я тоже «встретил» в армии. Случайно вытянул книгу из шкафа, начал читать и подумал: смотри-ка, а мужик мучается не меньше, чем я!
— Знаешь, в моем становлении и как мужчины, и как филолога огромную роль сыграла армия. Я провёл два года в мотопехоте и в танке и вернулся в науку, скажем так, с лёгким налётом брутальности. Забирали меня полуангельским одуванчиком ― я тогда весил 58 кг, а танковый снаряд ― 42 кг. И сразу в танк, экипаж ― четыре человека: командир-туркмен, наводчик-азербайджанец, механик-водитель ― казах. И я, интеллигентный студентик. Сама понимаешь, меня это быстро закалило.
Из смешного, помню, попал в госпиталь ― нет, не били, по другой причине. И вот иду я на укол (с книжкой, конечно), во мне ни мышц, ни килограммов, только крылышки болтаются. А мне навстречу медсестра Галя ― шустрая, бойкая, лет на пять старше, с офицерами и солдатами работает… И она меня спасла вопросом: «Алёша, а что ж ты будешь с таким весом с женщинами делать?!» Вот тогда я понял, что надо и вес набрать, и книжки отложить.
Этот армейский опыт очень важен. Сейчас ребята его не имеют, и многие филфаковские пацаны, к сожалению, так и остаются недопацанами. А нас взяли, посадили в какие-то немыслимые условия ― трудно, жёстко, как раз в это время советская армия разлагалась… Но только так ты и взрослеешь и даже к своему призванию начинаешь относиться по-другому. Кстати, Леонида Андреева ― писателя, которому я посвятил всю первую половину своей литературоведческой жизни, ― я тоже «встретил» в армии. Случайно вытянул книгу из шкафа, начал читать и подумал: смотри-ка, а мужик мучается не меньше, чем я!
— Продолжая разговор о гендере. Скажите, вы как-то видите по своим нынешним студенткам, что они приходят с другим ощущением своего места в мире? С запросом на большие права, реализацию? Даже по сравнению с нами, которые учились лет десять-пятнадцать назад?
— Ты знаешь, скорее, нет. Я бы сказал, что многие девочки на первом-втором курсе вообще ещё по-настоящему не открыли в себе женскую составляющую и пребывают в состоянии зашкаливающей духовности. Это какое-то догендерное существование. Проблема, скажем так, затянувшегося девичества существует на гуманитарных факультетах до сих пор. И это действительно проблема: нельзя работать с литературой, не понимая и не ощущая одной из её магистральных тем.
— Ты знаешь, скорее, нет. Я бы сказал, что многие девочки на первом-втором курсе вообще ещё по-настоящему не открыли в себе женскую составляющую и пребывают в состоянии зашкаливающей духовности. Это какое-то догендерное существование. Проблема, скажем так, затянувшегося девичества существует на гуманитарных факультетах до сих пор. И это действительно проблема: нельзя работать с литературой, не понимая и не ощущая одной из её магистральных тем.
Студентам педагогического отделения открыто говорят, что главное место, где их ждут, ― это школа. Помнишь, какой энтропийный ужас эта мысль вызывала у вас? Школа казалась территорией, где нельзя найти мужа, деньги, смысл... Где ты теряешь время, лицо, жизнь. А сейчас студенты спокойно идут туда работать.

— Когда я училась на филфаке, мне кажется, мы довольно чётко делились на две категории: первые поступали сюда условно осознанно, в светлом романтическом порыве, вторые ― потому что был низкий проходной балл. Как сегодня изменилась мотивация абитуриентов? И вообще, изменилась ли ― или они такими же блаженными и остались?
— Ты знаешь, блаженных достаточно. Их не меньшинство и даже не половина. И я их очень ценю, потому что это, скажем так, высокое юродство ― залог того, что сфера будет сохраняться. При этом сам факультет довольно сильно изменился. Есть два отделения: суперпопулярное педагогическое и классическое филологическое, 125 и 45 первокурсников соответственно. И представь, что примерно две трети из них платят за своё обучение. Когда ты училась, такое было возможно?!
Лет семь назад казалось, что филфак превратится в маргинальную систему людей, которые по крупному счету не нужны никому. Но произошло невероятное. Возможно, это связано с положением края, с изменениями в системе образования или социальной сфере ― но филфак внезапно стал фантастически популярен. И да, студентам педагогического отделения открыто говорят, что главное место, где их ждут, ― это школа. Помнишь, какой энтропийный ужас эта мысль вызывала у вас? Школа казалась территорией, где нельзя найти мужа, деньги, смысл... Где ты теряешь время, лицо, жизнь. А сейчас в силу разных причин (я толком не знаю каких, потому что с современной школой знаком плохо) студенты спокойно идут туда работать. Кто-то потом уходит, но большой процент остаётся. Неожиданно педобразование стало самым популярным проектом филфака. А сам факультет из места пребывания читателей с неопределённым будущим, готовых размышлять о высоком, но не представляющих, где они реально будут зарабатывать деньги, превратился во вполне прикладное образование.
— Ты знаешь, блаженных достаточно. Их не меньшинство и даже не половина. И я их очень ценю, потому что это, скажем так, высокое юродство ― залог того, что сфера будет сохраняться. При этом сам факультет довольно сильно изменился. Есть два отделения: суперпопулярное педагогическое и классическое филологическое, 125 и 45 первокурсников соответственно. И представь, что примерно две трети из них платят за своё обучение. Когда ты училась, такое было возможно?!
Лет семь назад казалось, что филфак превратится в маргинальную систему людей, которые по крупному счету не нужны никому. Но произошло невероятное. Возможно, это связано с положением края, с изменениями в системе образования или социальной сфере ― но филфак внезапно стал фантастически популярен. И да, студентам педагогического отделения открыто говорят, что главное место, где их ждут, ― это школа. Помнишь, какой энтропийный ужас эта мысль вызывала у вас? Школа казалась территорией, где нельзя найти мужа, деньги, смысл... Где ты теряешь время, лицо, жизнь. А сейчас в силу разных причин (я толком не знаю каких, потому что с современной школой знаком плохо) студенты спокойно идут туда работать. Кто-то потом уходит, но большой процент остаётся. Неожиданно педобразование стало самым популярным проектом филфака. А сам факультет из места пребывания читателей с неопределённым будущим, готовых размышлять о высоком, но не представляющих, где они реально будут зарабатывать деньги, превратился во вполне прикладное образование.
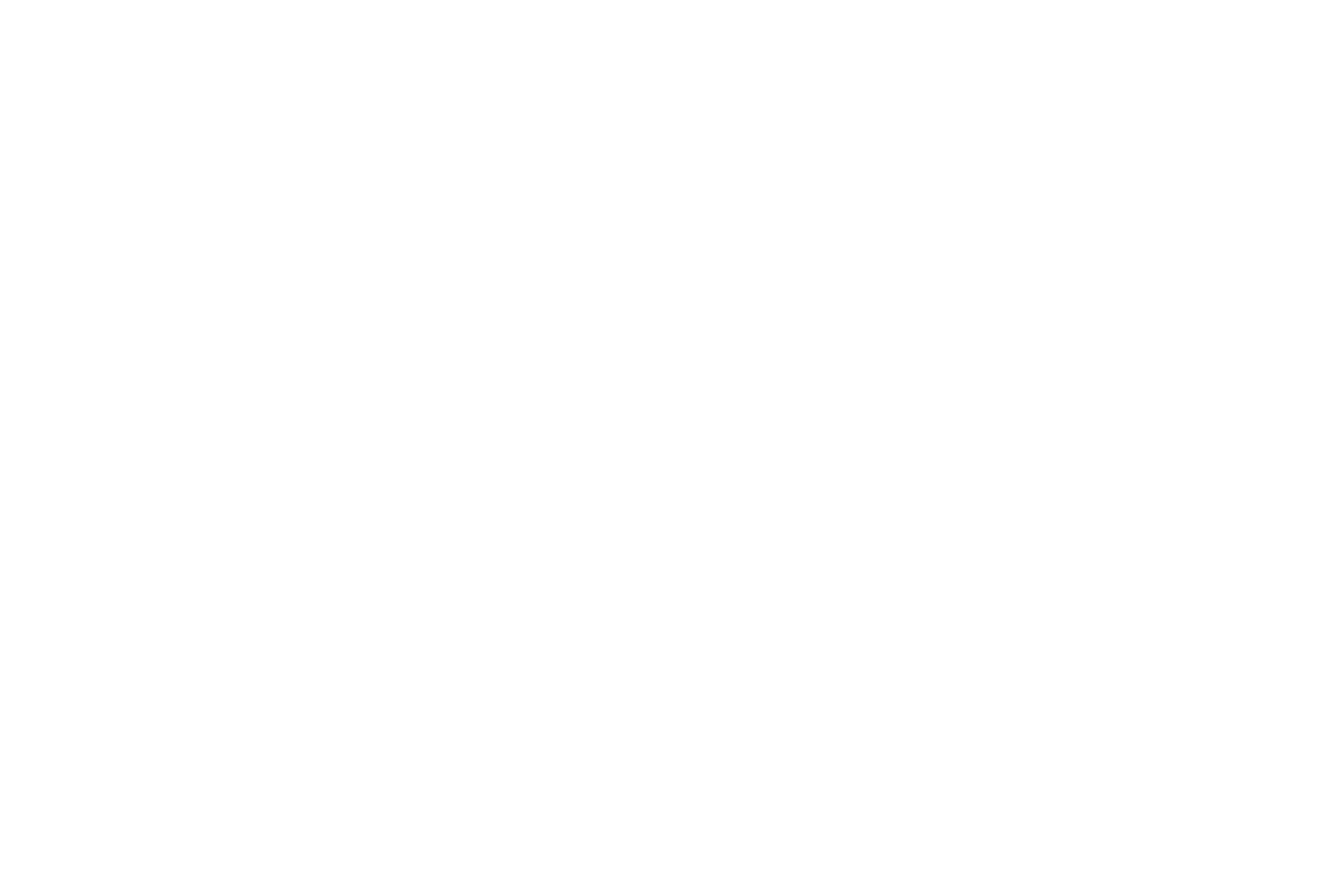
Скажу, что качество студентов не ухудшается. Они меняются ― это правда. Есть те, кто в 17 лет знает намного больше, чем я в их годы. Но при этом нельзя не отметить, что многие из этих ребят пугающе наивны.

—А если говорить об интеллектуальной и человеческой составляющей? Сегодняшний гуманитарий ― кто он?
— Он очень разный. Некоторые мои коллеги уверены, что современная система образования неизбежно ведёт к дебилизации и через несколько лет мы получим стада людей, способных читать только краткое содержание. Но я скажу, что качество студентов не ухудшается. Они меняются ― это правда. Есть те, кто в 17 лет знает намного больше, чем я в их годы. Но при этом нельзя не отметить, что многие из этих ребят пугающе наивны. Возможно, это уже мне так кажется от постоянно растущего опыта, но вот как-то очень много детского мне видится в нынешних студентах. Даже вы были другими.
Знаешь, я очень много работаю с первокурсниками и вижу студентов в их лучшем виде ― когда они ещё горят чистым духовным пламенем. А потом начинают расти и многое отсеивать как ненужное. Кто-то понимает, что не туда поступил, кто-то делает выбор в пользу практического опыта и навыков. Первый курс очень светлый, на втором всё гораздо более облачно, а к старшим курсам вообще по-разному.
Но в целом радует, что контингент и на филфаке, и на РГФ очень неплохо воспитан. Некая поведенческая элитарность, которая всегда отличала гуманитариев, сохранилась до сих пор. Да, возможно, они иначе ведут себя в других ситуациях жизни, но, даже когда я вижу своих студентов в городе, они отличаются от других.
— Он очень разный. Некоторые мои коллеги уверены, что современная система образования неизбежно ведёт к дебилизации и через несколько лет мы получим стада людей, способных читать только краткое содержание. Но я скажу, что качество студентов не ухудшается. Они меняются ― это правда. Есть те, кто в 17 лет знает намного больше, чем я в их годы. Но при этом нельзя не отметить, что многие из этих ребят пугающе наивны. Возможно, это уже мне так кажется от постоянно растущего опыта, но вот как-то очень много детского мне видится в нынешних студентах. Даже вы были другими.
Знаешь, я очень много работаю с первокурсниками и вижу студентов в их лучшем виде ― когда они ещё горят чистым духовным пламенем. А потом начинают расти и многое отсеивать как ненужное. Кто-то понимает, что не туда поступил, кто-то делает выбор в пользу практического опыта и навыков. Первый курс очень светлый, на втором всё гораздо более облачно, а к старшим курсам вообще по-разному.
Но в целом радует, что контингент и на филфаке, и на РГФ очень неплохо воспитан. Некая поведенческая элитарность, которая всегда отличала гуманитариев, сохранилась до сих пор. Да, возможно, они иначе ведут себя в других ситуациях жизни, но, даже когда я вижу своих студентов в городе, они отличаются от других.
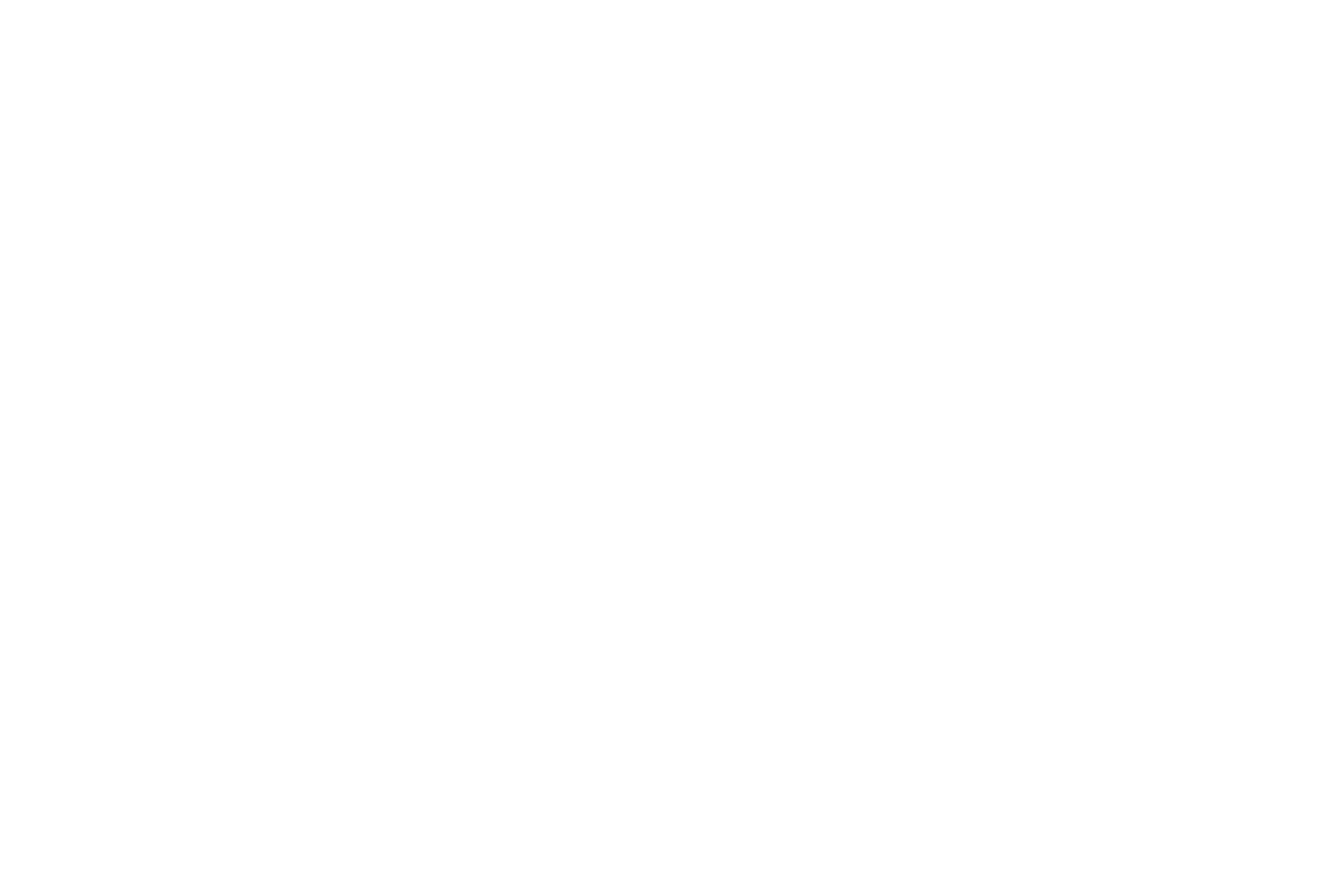
Сейчас не 1990-е, когда филологи шли в школу или как повезёт. Сегодня, обладая широким взглядом и умением шустро оценивать реальность, мастер слова может работать абсолютно в разных областях.

— Следите ли вы за судьбой своих выпускников? Где работают филологи?
— На самом деле ― везде. Если окончил этот курс хорошим текстовиком, ты можешь работать практически где угодно. Мои ребята работают в администрации и чиновниками разных мастей и рангов, огромное количество ― в журналистике, на телевидении, радио, в разработке компьютерных игр, в рекламе, пиаре. Многие учуяли, что интернет ― это текстовое пространство, и бороздят его просторы. Очень многие успешно, прибыльно и незаметно занимаются репетиторством. Самые мудрые, конечно, совмещают. Сейчас не 1990-е, когда филологи шли в школу или как повезёт. Сегодня, обладая широким взглядом и умением шустро оценивать реальность, мастер слова может работать абсолютно в разных областях. Такого, чтоб мой выпускник продавал телефоны или разливал пиво, я не припомню. Студенты ― да, подрабатывают, и я считаю, это нормально.
Что меня удивляет, так это то, что не многие уезжают в столицы. Всё-таки для словесника там течёт другая жизнь, главные текстовые пространства существуют там. Но если раньше из Краснодара рвались все, сегодня я вижу обратную ситуацию. Вообще, в 1990-е ― начале 2000-х в студентах было больше азарта. Они могли мотануть на год в США, поработать нянечкой во французской семье, на три года рвануть в Германию. А сейчас почему-то нет. Нет этого драйва, который отличал тех, кому сейчас уже под сорок. Это обидно. Но не будешь же давать студенту совет: «Уезжай!» ― как-то это не нравственно. А ведь многим полезно было бы посмотреть, как там, подучить язык и перейти к более совершенной деятельности.
— На самом деле ― везде. Если окончил этот курс хорошим текстовиком, ты можешь работать практически где угодно. Мои ребята работают в администрации и чиновниками разных мастей и рангов, огромное количество ― в журналистике, на телевидении, радио, в разработке компьютерных игр, в рекламе, пиаре. Многие учуяли, что интернет ― это текстовое пространство, и бороздят его просторы. Очень многие успешно, прибыльно и незаметно занимаются репетиторством. Самые мудрые, конечно, совмещают. Сейчас не 1990-е, когда филологи шли в школу или как повезёт. Сегодня, обладая широким взглядом и умением шустро оценивать реальность, мастер слова может работать абсолютно в разных областях. Такого, чтоб мой выпускник продавал телефоны или разливал пиво, я не припомню. Студенты ― да, подрабатывают, и я считаю, это нормально.
Что меня удивляет, так это то, что не многие уезжают в столицы. Всё-таки для словесника там течёт другая жизнь, главные текстовые пространства существуют там. Но если раньше из Краснодара рвались все, сегодня я вижу обратную ситуацию. Вообще, в 1990-е ― начале 2000-х в студентах было больше азарта. Они могли мотануть на год в США, поработать нянечкой во французской семье, на три года рвануть в Германию. А сейчас почему-то нет. Нет этого драйва, который отличал тех, кому сейчас уже под сорок. Это обидно. Но не будешь же давать студенту совет: «Уезжай!» ― как-то это не нравственно. А ведь многим полезно было бы посмотреть, как там, подучить язык и перейти к более совершенной деятельности.
— Сегодня, когда магистральным мировоззренческим трендом стало позитивное мышление и такой, знаете, бытовой буддизм, серьёзная литература — а уж тем более классическая русская литература — вызывает много вопросов. Например, есть большие сомнения, что 15-летнему подростку стоит читать Достоевского или Толстого ― людей, которых вряд ли можно назвать образцами психического здоровья. Как литература живёт в это время?
— Я отвечу, что литература никогда не была и не обещает быть зоной безопасности. Любой по-настоящему художественный текст ― это путешествие в штормовом море без страховки с абсолютно непредсказуемым финалом. А может, и без финала ― смысл совершенно точно не в нём.
— Я отвечу, что литература никогда не была и не обещает быть зоной безопасности. Любой по-настоящему художественный текст ― это путешествие в штормовом море без страховки с абсолютно непредсказуемым финалом. А может, и без финала ― смысл совершенно точно не в нём.
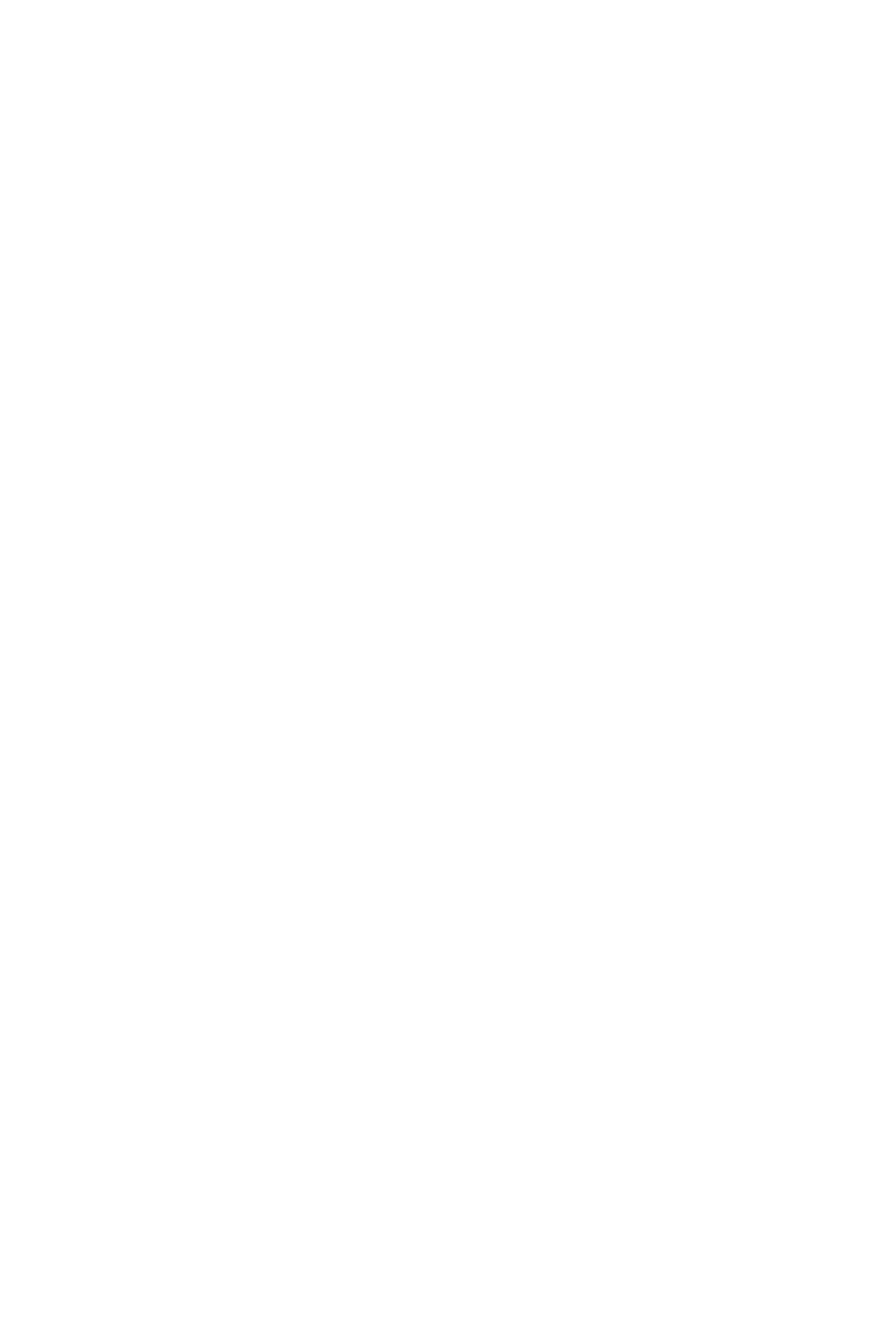
Ты права, в контексте современного культа комфорта и лёгкости довольно трудно принять мысль, что литературное произведение ― речь, разумеется, о «большой литературе» ― не обязано приносить удовольствие, утешать или развлекать. Больше того, выбор авторов и тем, с которыми вы проживаете жизнь, накладывает на неё очень сильный отпечаток. Убежден, что, вытащи я тогда, в 18 лет, не томик Леонида Андреева, а Шмелёва или хотя бы Бунина, первая половина моей взрослой жизни прошла бы в гораздо более светлых контекстах.
Задача и создания, и восприятия литературы ― концентрировать вопросы, на которые зачастую нет ответа. Да и сам процесс их формулировки требует огромного напряжения. Но только задавая эти вопросы, человек способен духовно расти. Я не вижу другого способа.

Задача и создания, и восприятия литературы ― концентрировать вопросы, на которые зачастую нет ответа. Да и сам процесс их формулировки требует огромного напряжения. Это больно, трудно, неудобно, чревато крушениями идей и мнений, ставит в тупик и сильно влияет на течение внешней жизни. Но только задавая эти вопросы, человек способен духовно расти. Я не вижу другого способа. Ещё древние греки изобрели понятие катарсиса ― высшей точки человеческого страдания, пройдя через которую ты получаешь особое зрение, переходишь на новый уровень восприятия жизни и своего пути. И я уверен, что если ты не переживал подобное и не пытаешься пережить, то ты прах и пыль. Возможно, это попахивает какой-то элитарностью, я не хочу никого обидеть. Конечно, без этих духовных опытов можно прожить. Но нужно ли? Для меня ответ очевиден. И выбор литературы как способа исследования мира тоже очевиден.